/
Знак судьбы
Николай Соловьев
I
События того года неудержимо последовательны, в каменной их предопределенности заметен теперь особый смысл: летом шестьдесят третьего село наше, от веку слывшее именно селом, а ничем иным, переименовали вдруг в поселок и сделали райцентром, в августе закрыли церковь, бабушка продала дом, а в ночь на второе сентября увидел я привидение - в ту пору исполнилось мне семнадцать лет, со мной что-то происходило, и увидеть я мог кого угодно. Все это совершилось с промежутком в несколько пустых дней, заполненных, казалось, одним солнцем и запахом жома, мертво висящим над селом в конце каждого лета, потому и помнятся они единым целым...
Однако никому из нас не следует забывать о тех нелепейших случайностях, норовящих то и дело нарушить явную и предначертанную последовательность событий. Из тех предосенних случайностей надо выбрать следующие: вот, скажем, ночной горячечный шепот, слетевший с припухлых влажных губ: "Я не хочу, чтобы ты уезжал!", затем дырявый карман, откуда вывалились в траву важные справки, затем отщеп на борту лодки, который рванул меня за штанину и опрокинул в воду, когда метнулся я с кормы на нос, следя за мгновенным раскрутом жерлицы. В воду швырнуло меня спиной вперед, и черный бок топляка видеть я не мог, не смог даже ощутить его твердость - сперва было больно, затем радужное солнце через сомкнувшуюся воду сменилось рябью и мутью, затем наступила темнота. Но нумерация страниц книги жизни должна остаться неизменной - на стрежне стоял в челноке отец Николай, поэтому, когда я очнулся на берегу, именно его борода заслонила показавшееся мне необычайно ярким небо.
- А! - сказал отец Николай с живейшим интересом. - Вернулся, - он нагнулся и добавил доверительно: - Скажи, есть там кто-нибудь?
Надо было отвечать, но я, к сожалению, не смог, а повернулся на живот, и тут же мутной противной струйкой потекла из моего рта под обрыв речная вода.
- А! - опять сказал отец Николай с сожалением. - Значит, нету!
Он спрыгнул с обрыва и, проваливаясь в мягкий песок, пошел к причаленному своему челноку.
Через полчаса и я сумел подняться на ноги - голова, казалось, готова была распасться на две части. Сжимая ее обеими руками, словно лопнувший горшок, и спотыкаясь о кочки, побрел я назад к селу, где за Горой, за верхушками американских кленов вырастали и приближались лакированные зубчатые башенки дворца. Во дворец, в комнату с потолком в деревянных шпалерах со сценами из охотничьей жизни и принес вечером так и оставшуюся на жерлице щуку отец Николай.
Видимо, следует пояснить, что и до описываемого времени, и тогда село наше считалось местом примечательным, а прежде всего тем, что стоял на Горе и даже в войну и оккупацию выстоял во внешней сохранности целый дворец, имение принцев Ольденбургских, родственников царя с немецкой стороны. О! В том дворце и жили мы с бабушкой, вдвоем занимая обширное красного кирпича здание, построенное в готическом стиле, с крутой крышей, с башенками и шпилями. А рядом, на раскатах Горы, дотлевал и расточался парк с купольными беседками, висящими на сгнивших цепях опасными уже мостиками, с каскадом заросших уже прудов, вниз к ажурным скособочившимся воротам сползала лестница с гранитными шарами, в глубине парка сохранились грот и фонтан, в котором утвердился на загнутом хвосте и разевал пересохшую пасть ржавый дракон. Следы той жизни бабушка указывала мне даже в лесу: горки кирпичных обломков лежали на тех местах, где ольденбургские охотники имели счастие и удачу заполевать редкого русского зверя - волка, медведя, лося - и в ознаменование того ставили ему памятник-обелиск.
Да ведь и в каждом доме нашего села-поселка за белеными стенами имелась какая-нибудь редкость из дворца! В памяти моей застряли: складной веер резной кости, мятый каретный фонарь желтой меди, напольный подсвечник, мраморной колонной подпиравший угол соседского сарая, охотничий витой рожок, что болтался и прыгал на брезентовой груди общественного пастуха Василия Львовича Казенкина, когда спешил тот за отставшей коровой. Были в домах, по всей вероятности, вещицы и поценнее, отсутствие же подобных осколков наводило на грустную мысль о нерасторопности собственных предков: все, значит, успели, а он (дед, прадед) не успел.
Во дворец и пришел со щукой в корзинке отец Николай, ибо последовательность событий была такова: на сахарном заводе созвали собрание, и назначенный человек объявил с трибуны, что никто в селе не сможет теперь рассчитывать на деревенские поблажки, следующим шагом стало упразднение общественного стада и закрытие церкви. Но если борьба с частнособственническими инстинктами населения у того лысого человека затянулась, то антирелигиозная кампания прошла куда успешнее - никто церковь не закрывал, то есть не навешивал на нее особых замков и печатей и не забивал дверей досками. Церковь Козьмы и Дамиана просто не открыли в назначенный час, и разошлись старушки в белых платках, и укатил на взвизгивающих подшипниках с утра поддатый инвалид Леха Партизан. В тот же день по проулкам крутилась машина с фургоном, в чье жаркое железное нутро двое здоровенных мужиков в одинаковых комбинезонах закидывали пойманных петлями собак - и село тогда ошеломленно притихло, ожидая следующих мер и как бы заранее принимая любую - хоть бы и осадное положение или, скажем, комендантский час. Еще через два дня уехал в грузовой машине молодой священник отец Павел, увозя в кабине жену и дочку, а в кузове - нажитое имущество, в кузов же забрался и сам, растерянно придерживая левой рукой непривычную шляпу.
А в "поповском" доме, в малой его половине так и остался жить давно уже не служивший одинокий пожилой и нелюдимый отец Николай. Остался он, неизвестно на что рассчитывая. Тетка Наталья, запомнившаяся болтовней и плюшевым жакетом-душегрейкой, бойко рассказывала, что вдовых отставных священников отправляют на покой в монастырь, а отец Николай ехать от нашей природы никуда не хочет. Слова ее на правду походили, но бабушка тетке не верила, ибо Наталья редко говорила правду, однако мы и Наталью выслушали - более слушать все одно было некого.
На магазине поменяли вывеску, и открылся еще один магазин и еще, открылась даже столовая, а дальше открытиям и счет потеряли. В домах появились квартиранты, да и сами дома "частного сектора" вздорожали, отроду в нашем селе не строили никаких других, и под это дело бабушка решилась наконец и продала дом райсовету. Цену ей сказали с каким-то учетом амортизации, что это означает, она не знала, однако диву далась, что вот и на нашу деревянно-глиняную развалюху нашелся какой-то дурак-покупатель. Дураком был тот самый городской лысый человек, а объяснение было простое - покупали не себе. Но амортизационные деньги, как бабушка боялась, ничем от обычных не отличались. Получив их, тотчас засобирались мы в дальнюю лесную деревню, где я думал работать в заповеднике и занять пустующую казенную квартиру, но потерял почти все документы, дело мое застопорилось, и пока что тот же лысый начальник разрешил нам с бабушкой временно пожить во дворце.
Тут, правда, без труда понимался расчет: с войны во дворце помещалась дирекция сахарного завода, сейчас же дворцом овладели более солидные райучреждения, в комнатах его следовало сделать ремонт, а с этим тянули, хотя дирекция оттуда уже убралась.
Ветреными ночами дворец грохотал пустотой, как барабан, скалой высясь на отшибе села без огней, хлеща оборванными проводами по кирпичным своим бокам. Проживанием там мы дворец как бы охраняли - острастка была серьезной, так как все знали, что живет там Дарья Митрофановна Антюхина, травница и ворожея, известная многими делами, ну хотя бы тем, что в позапрошлом году увидела в пирамиде из расплавленного воска, вылитого в стакан с водой, точное место в Сенькином овраге, где спрятаны украденные с сахарного завода дорогие инструменты.
Бабушка выбрала две комнаты в правом крыле дворца. Когда-то здесь была библиотека, на закрашенных стеклышках возле каждой двери уцелели о том надписи, еще в комнатах были деревянные шпалерные потолки, по верху непонятно каким цветом окрашенных стен шла лепнина, обметанная паутиной. Имелись у нас с бабушкой две керосиновые лампы, кое-какая мебель, но жизнь продолжалась и в этих двух комнатах точно такая же, что осталась в домике с промокавшими от любой сырости стенами. Бабушка занималась лесом - грибами, ягодами, травами, а я - рыбной ловлей, в которой был удачлив, и ловил на продажу, особенно щук, - корзину с щуками отвозила в город знакомая торговка, и там они ходко раскупались на национальные блюда местными портными, ювелирами, зубными техниками и представителями творческой интеллигенции, заказывавшими рыбу определенного размера, на точное время и за обусловленную плату.
Удачливы, впрочем, были многие рыбаки на нашей медленной реке, но никому не удавалось обловить когда-либо отца Николая. Резиновый плащ, сбитые до белесого испода головки сапог из-под плаща, седая борода, в руке ореховое удилище, блесна на чудовищно толстой лесе зацеплена за сучок - отец Николай, как со смутной завистью говорили на реке, знал будто бы Слово, да, видимо, и в самом деле, учитывая все происшедшее, знал его. В действительном же существовании некоего рыбьего Слова у меня никаких сомнений нет. Ни погода, ни время дня, ни, возможно, вспышки на Солнце, ни, черт его знает, какая еще причина, по которой, бывает, рыба отказывается клевать, не волновали его ничуть: прийти он мог раньше всех, мог позже, мог встать на свои места, а мог уплыть к кустам или вообще остановиться на стрежне - рыба всегда и всюду шла к нему точно приговоренная.
Рыба была, верно, приговорена, но такой приговор вкупе с общей нелюдимостью человека и делает его одиноким, даже и бабушка иной раз оглядывалась, идя в лес, с моста на реку - не сидит ли где в челноке отставной батюшка, не перебьет ли удачу?
Но ведь и то сказать - необыкновенный человек была моя бабушка! И жизнь прожила необыкновенную, и поступки ее я не всякий раз мог объяснить, а значит, и картина мирно сидящего за нашим столом отца Николая вряд ли могла меня поразить чем-то особенным - однако ведь удивила, раз помню я через столько лет, как кивал отец Николай в мою сторону, вопрошая с надеждой:
- Тезка - а?
- Дак зимний Никола, как же, - рассудительно отвечала бабушка.
- Семнадцать лет! - крутил головой отец Николай, изумляясь этой столь малой величине.
- Жених! - подтвердила бабушка.
- А девушка? - тревожно спрашивал отец Николай.
- Есть! - успокаивала его бабушка. - Дак Сурова Наталья.
Я же лежал, морщился от головной боли, зато мне было покойно, и забывалась та радужная рябь, и тошнота проходила, так и думалось, что происходит это оттого, что сидят за столом отец Николай и бабушка и спрашивает его бабушка, как спросила бы и меня:
- Йисть будешь?
- Потом-то ко мне заходи, - позже, наклоняясь к постели, говорил отец Николай. - Приходи давай. Чего покажу.
Я киваю, и отец Николай обрадовано поворачивается к бабушке:
- Придет!
- Пущай, - легко соглашается бабушка. - А ты, батюшка, забирай вот корзиночку-ту, давай парню передохнуть, вишь не в себе он, башка-то вон какая.
Отец Николай поднимается и, еще раз глянув на меня: "Придет", - это ему отчего-то становится важным, выходит, и бабушка с поклонами провожает его по длинному коридору и по лестнице до самых дверей.
- Все ж таки тридцать лет Богу служил, людям грехи отпускал, - как бы оправдываясь, говорит она мне, вернувшись, - это сколь же грехов Бог простил! И все через него. Уж сходи, стукнись к нему, скушно, вишь, одному. Скажи ведь, как Господь привел, - утоп бы этаким-то манером, утоп! Я-то знала, что опасность тебя ждет от воды, да ведь тебе и слова поперек не говори никогда!
Я и сам понимал, что едва не утонул в той реке, которую начал переплывать лет с девяти, и все происшедшее наполняло меня обидой, как на старого друга, совершившего вдруг предательство.
II
Дверь у отца Николая обита драным толстым одеялом, ни шороха сквозь него, ни щелочки. Впервые я перед этой дверью, зато помню, как лазили мы когда-то в "поповский" сад, не то за яблоками, не то за малиной, и ужасно при этом боялись, и потому с удивлением я обнаруживаю в себе шевеление того, незабытого, выходит, страха.
- О! Заходи!
Ну зашел, сел к столу на табуреточку, отец Николай напротив. Посидели.
- На речку-то пока не ходишь?
- Пойду на днях, попробую с берега. Все хотел спросить у вас - всех я в деревне знаю, а с вами первый раз вот разговариваю. Почему?
- Да ведь я тридцать лет с амвона с людьми говорил. Пора и помолчать. На всю жизнь я, Коленька, наговорился! Главных слов все равно не сказать, никто их не знает, кроме Бога. Спаси да помилуй, оно и хватит. В молчании сила не меньшая, ты не думай. А скажи-ка мне, учебу свою закончил?
- Вроде да. Работать надо. В лес пойду, егерем.
- Науки, стало быть, знаешь?
- Какие науки?
- Такие, - со значением отвечал отец Николай. - Обыкновенные. Идем, чего покажу.
Он открыл низенькую боковую дверь, залез головой внутрь, поволок оттуда тяжелый и странный какой-то предмет.
- Подсобляй давай! - и ко мне, кряхтя, обернулся.
Я тоже вцепился во что-то твердое, и вдвоем мы едва вытащили в комнату странное сооружение, накрытое сверху разорванным рогожным кулем.
- Гляди теперь, вот она, наука!
О! Какая это была чудная вещь! Стоял перед нами на бронзовой витой подставке музейного вида огромный глобус с рельефной крашеной поверхностью, и были вокруг него укреплены и дуги, и обручи, и проволочные блестящие орбиты, и подрагивали на них на пружинках разного размера шары и шарики, и чудилось в их сплетении и обегании раскрашенного земного шара затаенное движение.
- Теперь дальше гляди!
Отец Николай присел, закрутил с потрескиванием какую-то пружину, спустил рычажок и отступил: слабо тренькнув, все хитрое сооружение вдруг в самом деле пришло в движение, стронулся и закрутился по оси земной шар, и поплыли передо мной голубые глубины океана, зеленые привычные равнины и желтые пустыни, и коричневые горы, точки городов, латинские надписи, побежали по проволокам малые и большие шарики, пошли вкруговую и дуги, и зазвучала немедленно в комнате музыка мироздания, составленная, как оказалось, из потрескивания и звеньканья рычажков, из шипенья пружин, из шороха за дверью, из ветра за окном, из лунного света и отблеска стеклянной лампадки.
Отец Николай опять исчез за дощатой дверью и вытаскивал теперь еще и суставчатую, схваченную во многих местах медными кольцами длинную трубу-телескоп на разлапом треножнике, потащил, оставив трубу, деревянный ящичек со свитками карт, стал встряхивать их, показывать одну за другой мне - по бледному фону неслись опрометью колесницы, в угрожающих позах стояли звери, птицы, рыбы, плыли корабли с парусами, усатый стрелец натягивал лук.
- Видал?
- Откуда это все?
- Оттуда, - отрезал, хоть и ласково, он. - Помощь мне нужна, Коленька.
И объяснил: вещи эти ему принесли, кто и откуда, он не сказал, показали, он и купил, отдав тут же все, что было в доме, даже спрятанные в требнике "смертные". Стал смотреть на небо из окна, а теперь решил перенести телескоп и глобус во дворец, на правую башню, к небу повыше. Без моей помощи сделать все это невозможно, так что, как понималось, очень вовремя полетел я спиной в воду.
Я глядел на отца Николая с одним только вопросом - зачем ему это? Что ищет он в темном небе, да и что вообще можно там увидеть особенного?
За семнадцать лет жизни с бабушкой к разного рода чудесам я как-то привык. Известно, что в доказательство надо предъявить хотя б одно, и вот оно: глухой лес, жара, духота, неторный проселок, ветви качаются над головой. Мы с бабушкой едем куда-то в тарантасе, мне семь лет, в этом году в школу, я, свешиваясь головой на запятки, черчу сухим прутиком в пыли буквы, какие знаю. Вдруг коляска дергается, палочка оставляет на пыли непредсказуемый зигзаг, и сейчас же долетает до нас дальний звук, похожий на уханье, но не птичий и не человеческий, а какой-то скрежещущий, но явно живой. Затем прутик вообще вылетает из руки, и я сваливаюсь на дно тарантаса - лошадь взвивается на дыбки и мчит по проселку с грохотом, коляска скачет на корнях. Бабка пытается лошадь сдержать, и я вижу, как мгновенно, в секунду, покрывается гладкая кожа лошади пеной. Сзади нас все тот же ухающий и догоняющий нас звук, к которому прибавляется еще и хруст веток. Меня больно бьет о бока коляски, потом тарантас останавливается как вкопанный, и мы вместе с бабушкой глядим назад, а там все ближе: "Ух, ух!" и треск сучьев.
Бабушка гладит меня по макушке, и я чув-ствую, что она не боится, а просто рассержена. Бабушку не пугались птицы, и не жалили никогда пчелы, дважды на моих глазах она разговаривала с лосем, один раз она прогнала с пути волка - так чего ж мне было страшно?
Тут-то мы с ней и увидели. В стороне от дороги, почти у еловых вершинок, внезапно составился будто бы из веточек, хвойных лап, из кусочка синего неба и краешка облака чей-то необыкновенно ясный плоский профиль: лицо с косящим на нас глазом, улыбка, нос торчком. И пропал тотчас и появился ниже, уже в ином виде, и еще ниже, и вдруг вылетел на дорогу темный шевелящийся клубок, перекатился на другую сторону, и ухнуло оттуда: "Ух!". И все - опять стал пустынным проселок, опять налетели слепни, и перестала дрожать лошадь.
- Ба, а кто это был?
- Да лешак же! - в сердцах ответила мне бабушка, выворачивая лошадь снова на колею и понукая ее. - Ишь, колобродит старый.
Таким я лешего и запомнил, а потому чудны мне те детские рисуночки, на которых леший мал ростом, кривобок и вообще карикатурен - с семилетнего возраста дано мне знать, что лешие того же роста, что и деревья в лесу.
Полусказка, сон, переходящий в явь, были в нашей с бабушкой жизни чуть ли не обязательны и составляли ее непременную часть. Природу этих чудес я объяснить не могу, а раз так, то отнести к чудесам мое спасение на водах, глобус и телескоп я не решаюсь.
А в тот вечер я сходил домой за тележкой, и с отцом Николаем вдвоем мы перевезли старинное имущество во дворец, спрятали в пустой комнате, а следующей ночью, отодрав заколоченную дверь, по винтовой лестнице перенесли и установили на каменный пол телескоп. Отец Николай без промедления растянул с пощелкиванием трубу, установил ее в нужную ему точку и замер, подкручивая правой рукой какие-то рычажки и колесики у основания телескопа. Но и так было видно, что небеса над нами глубоки и непроглядны, а звезд на них миллионы, зато не видно с башни земли, и оттого рождалось странное чувство, что земля, пропавшая в ночной мгле, нисколько не ближе до нас, чем расстилавшееся над нами небо.
Отец Николай молчал, осторожно подвигая трубу, и, не вытерпев, я спросил у него:
- Скажите, отец Николай, только честно - Бог есть?
Спина его, обтянутая старым полосатым пиджаком, дрогнула, отец Николай от трубы оторвался и медленно, с интересом взглянул на меня.
- Есть, - твердо сказал он. - В том и дело-то, что есть! Кабы не было…
- Да где же он тогда? Вон церковь закрыли - он ни слова. Космонавты полетели - опять его нету! Как это все понять?
- А зачем тебе понимать? - искренне поразился отец Николай. - И я многого не понимаю, так что же мне теперь? Все понять нельзя. А храм наш - его ведь уже раз закрывали, а как немцев отсюда прогнали, снова служить начали. Так что все уже было, ничего удивительного. А власть - что ж, всякая власть от Бога, может, и эту дал он нам на испытание. Ну, будут снова на христиан гонения, церковь в подполье уйдет, в катакомбы, бывало уже, а сгинуть - учение Христово не сгинет никогда. Это и есть мудрость Божья.
- А вы как же?
- Да я от всех отбился. Меня теперь все забыли, от своих отошел, властям я тоже не мешаю, и вдовый я, сказать некому: "До самыя до смерти, Марковна". Но я не один, нет. Со мной - вон что, - торжественно закончил отец Николай.
- Глянь-ка в трубу. Что видишь?
В первые секунды я вообще ничего не увидел - пустота, редкая мутная мгла, точно туман над рекой. Потом из тумана выплыли и остановились три слабые искорки, за ними еще две.
- Да пусто там. Темнота одна! - отодвинулся я от трубы.
- Темнота? - отец Николай тоже был разочарован. - Вселенная это, Коленька. Вечна и бесконечна! Вот это пойми - вечна и бесконечна! Тогда тебе много откроется. Ты на бабку свою смотри.
Бабушку я видал каждый день целых семнадцать лет, давно полагая, что живу своим умом, поэтому отца Николая понять отказался. При чем здесь бабушка?
- …Да потому что и вселенную не каждому увидеть дано. На звезды смотреть - нужно голову закидывать, а это неудобно, все люди под ноги смотрят, - продолжал рассуждать отец Николай. - А уж силу звезд понять один из сотни сможет.
Он снова приник к телескопу, накручивая колесики, а я откинулся спиной на каменный парапет, задрал к звездам голову и задумался: уж не Бога ли, зримого и явного, отыскивал на небосклоне отец Николай?
- Эй, эй, Коленька! - позвал меня отец Николай. - Ты гляди, да не очень заглядывайся. А то затянет. Их там много, - он повернулся ко мне, и сумасшедший блеск уловил я в его глазах.
А звезд в августовском небе и впрямь были мириады! И чем дольше смотрел я на них, тем становились они ближе! Такое уже случалось со мной, и был уже когда-то такой же август, и такая же стояла над селом ночь, и я лежал рядом с костром на сене, и исполнилось мне тогда уже девять лет. Но словно не было никогда прожитых мною лет, девять ли, семнадцать, семьдесят - какая разница перед Вечностью! Я опять был маленький, одинокий и беспомощный человек, и вновь первобытный ужас, как перед пропастью, у которой нет дна, охватывал меня. Была во всем этом крайняя, неслыханная несправедливость - не существовало меня на свете, а уж давным-давно сияли над землей звезды, и не станет меня - и опять ни одна звезда не изменит силу своего сияния. Шаг один оставался перед пониманием себя как атомной доли некоей бесконечно малой песчинки, витающей в беспредельности вселенной и доступной глазу одного Вседержителя.
Долго ли, коротко ли сидел я, запрокинув голову, а только спустился я вниз, когда уже и бабушка спала, и отец Николай ушел с башни.
Тогда все и началось, вдруг и сразу перевернувшись с ног на голову, - бездна, разверзшаяся передо мной, затягиваться не желала. Вскоре уже наступило полнолуние, и тогда я вообще начал заговариваться. Бабушка спрашивала утром, пойду ли я на реку, а я ничего ответить не мог, как не мог и заснуть по ночам, ворочался под лунным светом, задумывался даже в лодке над поплавком, пропускал назначенные свидания и лишь стороной услышал и отнесся к тому безразлично, что Наталью Сурову, чей шепот едва не изменил назначенный порядок событий, провожал с танцев Леша Федоров, задержавшийся в памяти благодаря необыкновенной, как у негра, курчавой голове.
Долго так продолжаться не могло, однако продолжалось двенадцать дней и привело к тому, что в ночь со второго на третье сентября я и увидел призрак. Ровно на тринадцатый день полуобморочных рассуждений о вечности и неизбежности смерти - мысль о ней бродила все время где-то близко, но о смерти собственной и скорой впрямую как-то не очень думалось, хотя именно смерти, не будь на стрежне отца Николая, я избежал месяц назад, может быть, поэтому тянуло меня заглянуть за краешек, увидеть - что же там, что, вопрос отца Николая на берегу не казался мне бессмысленным, а земля, когда глядел я на нее с башни, притягивала к себе не меньше, чем небо, - итак, ровно на тринадцатый день я лежал без сна в постели. Пол в коридоре был паркетный, рассохшийся и серый от грязи, а когда-то, наверное, красивый и натертый, шашки его скрипели при каждом шаге, сейчас же ни треска, ни скрипа не было, но шаги - мягкое постукивание и шарканье - были отчетливы. Я зажег лампу и с лампой в руке подошел к двери, прислушался внимательней, рывком распахнул дверь - тотчас, выбросив жирный клок копоти, погасла у меня в руке лампа. А я так и остался стоять столбом в ослепившей меня тьме, потому что от большой трехсветной залы двигалось на меня по коридору что-то неясное и бесформенное, похожее на светящийся продолговатый сгусток, двигалось же оно, пола не касаясь, однако шаги слышались явственно. Что подходило ко мне в тот полночный час, не знал я тогда, не знаю и сейчас и, видимо, теперь уж никогда не узнаю доподлинно.
Светящийся как бы изнутри сгусток приближался очень медленно, постепенно принимая очертания - можно было уже голову различить, покатые скользкие плечи, но не лицо, вместо него был смазанный плоский отпечаток, в это мгновение призрак подошел вплотную и равнодушно прошествовал мимо. В конце коридора у окна с частым переплетом находилась еще одна дверь, за которой скрывалась витая железная лестница, ведущая на верх той башни, где обрушилась кровля. Дверь эту я сам же и забивал гвоздями, чтоб не хлопала она при сильном ветре, гвозди легко вошли в дряхлый косяк. Вытянувшийся в человеческий полный рост сгусток продвинулся именно туда, задержался на секунду, обернулся, как показалось мне, втянулся за доски и исчез за ними.
Так все и было, ни прибавлять, ни убавлять надобности нет.
Когда же пропал блеклый голубоватый свет, я отступил на шаг в комнату и тихонько прикрыл за собой дверь. Руки не слушались, и я не сразу сумел задвинуть в гнездо расшатанный засов. На разжигание лампы с поисками спичек потребовалось мне минут пять, а слабый ее свет нисколько не успокаивал, еще больше выявив ночь и темноту, углы тоже остались неосвещенными, и там могло прятаться что угодно.
Бабушка же спала - и я внезапно с отчетливостью понял: нет мне ниоткуда защиты! Только я сам смогу защитить себя - если, конечно, найдутся силы. Это был конец, край всего сущего, я откуда-то знал, что в этот миг решается и определяется моя судьба, и только что лопнула бесшумно та последняя тонкая нить, еще связывавшая меня с детством, и разрыв этот не заполнить никакими воспоминаниями. Жалость тлела во мне и печаль, что и в этой, столь неожиданно наступившей взрослой жизни не отыскалось защиты от того, что десять минут назад прошло мимо меня в коридоре дворца.
Утешало меня, правда, одно обстоятельство, но оно же и настораживало: бабушка-то спала! А уж она, если бы и на самом деле произошло бы что-то важное, обязана была проснуться: я не перестал верить в ее способности разгадывать тайну, те немногие чудеса, что были ей известны, могли хотя бы помочь, научить меня, что и как делать дальше.
- Ба!
- Чего? - после долгого кряхтения отозвалась из своей комнаты бабушка. - Да чего с тобой? Ай заболел?
И ошеломленный старческим ее кряхтением и причмокиванием, я только и сказал:
- Ба, давай уедем отсюда!
III
И уже к вечеру следующего дня мы и вправду уехали.
Из того времени из цепи не выпало ни одно звенышко, не забылось и не ускользнуло, я добросовестно их перечислил, а тогда, кем-то пронумерованные, они в должном порядке потянулись одно за другим, и мне сейчас необходимы все они, поскольку сумма и последовательность событий - это все, чем располагаем мы, когда пытаемся определить и хоть как-то обозначить будущую свою жизнь.
Бабушке я не сказал ничего ни ночью, ни утром - а что я мог бы ей сказать, что? Не стал говорить и отцу Николаю, который утром быстрым шагом явился во дворец, принеся новость, - комиссия! Только что заходили в церковь, теперь поехали на сахарный завод, и нас, конечно, не минуют тоже.
Так вот что предвещал вчерашний призрак, сию же минуту подумал я. Мне был подан знак, мне одному, поскольку это моя судьба решалась в прошлую ночь, ни бабушке, ни отцу Николаю, странным образом связавшемуся с нашей жизнью, ничего не грозило, ведь их судьбы определились давным-давно.
Комиссия, судя по числу и цвету автомобилей, цугом въезжавших в песчаный двор, была явно полномочной и окончательной. Это означало, что не только моя судьба решалась, но и судьба дворца, а так как мы с бабушкой были единственными его обитателями, то и вышел передо мной из каменной стены светящийся призрак и удалился через забитую дверь: требовалось хоть кому-то дать знак, случайность же в том, что оказался под рукой именно я.
Выйдя из машин и образовав стройную группу мужчин в серых костюмах, комиссия прямиком направилась ко дворцу, откуда из нижних окон правого крыла глядели на них мы. Лысый начальник, переставший уже считаться здесь чужим, держался в третьих-четвертых рядах. В авангарде же шествовал человек в круглой шляпе и рубашке без галстука, еще были заметны пышные усы, здесь же был и некто поясняющий в застегн


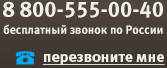






 Minelab
Minelab Garrett
Garrett AKA
AKA Fisher
Fisher Nokta
Nokta XP
XP Quest
Quest Whites
Whites Tesoro
Tesoro Teknetics
Teknetics Bounty H.
Bounty H. Sphinx
Sphinx
